 |
| NetLab · Rules · Torrent Tracker · Have a problem? · Eng/Rus |
 Help Help
 Search Search
 Members Members
 Gallery Gallery
 Calendar Calendar
|
| Welcome Guest ( Log In | Register | Validation ) | Resend Validation Email |
|
Posted: 02-09-2013, 09:45
(post 1, #1079582)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
А.М. Ремизов. Розановы письма (1905-1911 гг.)  А.М. Ремизов. Париж. 1956 г. В первый весенний день, когда с моря дыхнуло теплом и по всему Петербургу закапало с крыш, в час, когда расходиться, я вышел зачем-то на чулковскую половину в редакцию и вдруг услышал необыкновенное оживление в прихожей: кто-то, целая ватага вломилась - ряженые? - или что-нибудь диковинное? И сразу же смех и голоса. Я выскочил посмотреть. Час был сумеречный, но электричество ещё не зажигали, и я разобрал только: - в крылатке(конечно не в крылатке!), - с проселью рыжий, очки, а нос, как картофель. А вокруг - и откуда набралось? - все, кто был в редакции, и конторщицы и совсем случайные, зашедшие по делу. Он что-то говорил быстро и руками трогал. И все смеялись.рр - Розанов! да это ж Розанов Василий Василиевич! И я подошёл и совсем так, ничего над собой такого не выделывая. - Рóзинов - Рóзинов! - знакомился В.В. И продолжал разговариватть с необыкновенным сочувствием, спрашивая о самых таких вещах личных. И видно было и чувствовалось, как принимал к сердцу - совсем не безразлично, совсем не для слова. - Рóзинов - Рóзинов! - знакомился В.В., выговаривая Рози, не Роза, в противовес семинарскому крепкому Розáнов. И сейчас же с незнакомым начинал самое, как в долголетнее знакомство, о самом, о чём обыкновенно считается просто неприличным спрашивать. Я это и потом заметил, что Розанов подходит прямо к человеку - к тебе, прямо смотрит на тебя, и никогда не замечая глаз, а только или грудь, или "нижний этаж", или руку, принимает в тебе всего тебя до -- канатика. И это страшно располагало отвечать также прямо, и доверчиво безо всяких, это отбрасывало всякие перегородки, всякие условности, изобретённые людьми злыми или очутившимися в злом подозрительном мире. Розанову было до тебя дело. ================================================= С.П.(Серафима Павловна) читала стихи Бальмонта: - есть поцелуи, как сны свободные... В.В. (Розанов) был вообще в хорошем расположении: и уверился - и это самое главное! - да и кушанье было по вкусу. Стихи ему, видно, очень понравились. Зорко глядя из-под очков и нет-нет подмигивая, сучил он правой ногой. А когда С.П. закончила, он "как полагается" "как нужно" в таких случаях, не глядя, сказал: - Ну, что это за стихи: всё о поцелуях! - Да, - вспомнила С.П., - мы познакомились с Пришвиным: оказывается, ваш ученик, он рассказывал, что в гимназии вас козлом называли. - Как ты смеешь так говорить! Я с тобой не желаю разговаривать! И опять как в прихожей тогда. - Вася, перестань, - вступилась В.Д., - мало ли что в гимназии! Разве можно сердиться! Завтрак кончился, сидели так. В.В. всё ещё сердился. - Ну, давай помиримся! - и через стол протянул руку. - Конечно, Василий Васильевич, ведь не я же вас козлом назвала! - Как, противный мальчишка, опять! - и руку отдёрнул. |
||
|
Posted: 04-09-2013, 18:55
(post 2, #1079635)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
С.А. Ан-ский (Раппопорт) Из путевых заметок. 1908 г.  - Это наш квартирный хозяин. Ему около 80 лет, - шепнул мне с иронической улыбкой родственник. - Поговорите с ним. Его у нас считают большим чудаком. Но он далеко не глуп. Подойдя близко и остановившись прямо против меня, старик, не подавая мне руки с обычным "Шолом Алойхем", сразу спросил: - Откуда? Из Петербурга? И уставился на меня неподвижным взглядом совиных глаз. - Да, из Петербурга. - Ну, что?.. Что там в Петербурге? Весело? Гу-га? Пляшут по улицам? - спросил он опять, не спуская с меня странного взгляда. - Почему вы полагаете, что в Петербурге так весело? - Если бы там не было весело, зачем бы все туда бежали? Когда-то люди бежали в Миръ - есть такое местечко. - Почему? Потому, что там был знаменитый ешибот. Ну а в Петербурге ведь нет ешибота. Чего же бегут туда? - Разве так много народу едет отсюда в Петербург? - Так не в Петербург, так в другое чистилище, в Америку, - не всё ли равно! Но бегут и стар и мал как на свадьбу! - По вашему, значит, в Америку бегут для веселья? Старик сразу сделался серьёзным и заговорил с волнением; поспешно, с задорно полемическим тоном и ноткою негодования в голосе. - А вы что думали?.. Вам, вероятно, сказали что от нужды и нищеты бегут? Так плюньте вы на это! Слышите - плюньте! Хе! от нищеты! Точно нищета новость для еврея. Когда скажите евреи не были нищими? И мы, и наши отцы и деды - все помирали семь раз в неделю с голоду - и всё-таки никто не бежал в Америку. - Тогда ещё Америки не было. Какая Америка тогда была! - отозвался родственник. - Не было Америки, были другие весёлые места, отпарировал старик. - Тогда была "глубина России", где люди загребали золото лопатами - и все-таки никто туда не бежал. А почему? Потому, что тогда евреи были евреями, были людьми. Тогда и не понимали, как это можно уехать из родного местечка. Как это я уеду изъ Б.? Здесь я родился, здесь мой дом, моя синагога, здесь на кладбище похоронены мои родители, деды и прадеды. Здесь все меня знают, и я всех знаю. Здесь я человек. Как могу отсюда уехать? А теперешняя молодежь совсем другое дело! Она со всем справилась. Богъ? Где там Богъ! Какой там Богъ! Нет Бога! Тора? Хей, какая Тора! Одни басни, ничего больше! Нет Торы . . . Отец и мать? Плевать на них, кто на них смотрит! Нет отца и матери! Ничего нет! А когда ничего нет - можно бежать, куда ноги несут. Что, разве не так? Он опять уставился на меня своим пристальным взглядом - и его маленькая фигурка с седыми волосами и старческими глазами казалась до невероятности странной. Было в ней что-то детское, беспомощно жалкое, и в то же время чувствовалось нечто закостеневшее и сильное, как закорузлые, глубоко-вросшие в землю корни столетнего дуба. Я ничего не отвечал, ожидая продолжения. Старик еще ближе придвинулся ко мне, улыбнулся жалко-лукавой улыбкой и заговорил тише, почти таинственно: - Вы когда-нибудь видели ребенка, когда он, - извините за выражение, - умарается? Хе! Он тогда убегает с того места, где напачкал. И не только убегает, но еще издали указывает пальцем и кричит: "Пэ! какэ!" Сам напачкал и сам же кричитъ: "Пэ! какэ!" Вот так и теперешняя молодежь. Сама все загадила. А теперь бежитъ от загаженнаго места и кричит: "Пэ! какэ!". - Вы, реб Беръ, сердиты на Америку потому, что жена вас бросила и уехала туда, - отозвался, рассмеявшись мой родственник. -- Еще не уехала: пока сидит в Витебске, ждет билета, - поправил его спокойно старик. И, обернувшись ко мне, прибавил: - У меня два сына, оба в Америке. Им там видно очень понравилось. Стали писать письма, уговаривать меня и старуху тоже поехать туда. Старуха моя - умная, взяла и поехала. А я - дурак - и остался здесь. Дом у меня большой, пустой - а я маленький, вот имею занятие: хожу целый день по дому. А надоест ходить из угла в угол - отправляюсь в синагогу ... А если б я не был дураком, я бы тоже поехал в Америку. Что вы думаете, я бы там мог хорошие дела делать. Я старенький, да коротенький, вышел бы на улицу, стал бы на бочку, начал бы притоптывать ножкой и припевать: "Тра-ра! тра-а-ра!" - собрался бы кругом народ, покатывались бы со смеху и меня наверное озолотили бы! . . А я, дурень, своего счастья не понимаю. Сижу здесь в синагоге, читаю псалтырь - и никто мне гроша меднаго не дает за это! Ха-ха! Он залился мелким старческим смехом, в котором звучала болезненная обида и едкая ирония. И, сразу перестав смеяться, заговорил спокойно и серьезно: - Если я вам скажу, что все пошло вверх дном, вы, наверное подумаете: "Э! Старый дурак!" Но вот приведу пример. Когда-то выше всего ценили голову. Шутка ли, голова! Там хранится святая Тора. И голову всячески оберегали. Украшали ее пейсами, покрывали не только днем, но и ночью ермолкой и еще шапкой. И не какой-нибудь шапкой, а "штраймель", на которую не жалели денег. Носили меховыя "штраймель" в 20, 30 и больше рублей! . . А другие части тела, - о них и не заботились. Порваны штаны - тоже беда! Сапоги? Кто их носил? Ходили в туфлях, которые обходились в полтинник или рубль. А теперь другое время настало. Голова теперь в загоне, о ней не думают. Остригли пейсы, сбросили ермолку, а на шапку более 30 копеек не тратят, да и то ее не носят. Чего бояться? Чтобы Тора не выдохлась, что ли, когда в голове её и нет? За то начали с особенным вниманием оберегать и украшать живот! А! живот стал самой почетной частью тела. Только о нем и думают, только для него и живут, в него целые состояния запихивают! И как украшают его! Во-первых - манишка, во-вторых - жилетка. И этого мало - так навешивают золотую цепь . . . Старик вдруг смолк, глаза его потускнели. - Умирает, умирает мiръ, - проговорил он не громко и скорбно.- Скоро не будет евреев. . . Молодой человек, внимательно слушавший старика, взволновался и, поднявшись, проговорил твердо и страстно: - Ошибаетесь! Еврейский народ прожил 4,000 лет, он и теперь не умрет! Не беспокойтесь! Старик остановился, поднял на молодого человека свои совиные глаза и заговорил прежним тоном, в котором звучала та же ирония: - Кто говорит, что еврейский народ умрет? Избави Богъ! Я этого не говорил! Напротив, я уверен, что евреев станет все больше и больше. Ведь завет "Плодитесь и множитесь" теперь все выполняют особенно усердно. Так усердно, что даже не разбирают между своими женами и чужими! . . Не-ет! Я не говорил, что евреи умрут. Они будут живы. Но... Старик подошел ближе к молодому человеку и прибавил серьезно и наставительно: - Но всякая бывает жизнь. Живет человек, живет кошка, живет и свинья в болоте... Понимаете? |
||
|
Posted: 08-09-2013, 11:24
(post 3, #1079720)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
П.И. Мельников (Андрей Печерский)  <1869 год> ....большое село, Воскресенское, на Ветлуге, откуда переехали в Костромскую губернию, где были в деревне у двоюроднаго брата К. Н. Бестужева, Поливанова, а затем прибыли в город Варнавинъ. В этом городе случилось курьезное происшествие, о котором П. И. Мельниковъ следующим образом рассказал в одном из своих писем: "Приехали мы, туда вечером часу в одиннадцатом и ищем Поливанова, другого двоюроднаго брата Бестужева, служащаго там мировым посредником. Подъехали к нумерам какого-то купца, где узнали, что Поливанов остановился в других нумерах, у Бекорюкова. Мы туда, спрашиваем: "Здесь ли Поливанов?" Отвечают: "Здесь, но ушел гулять". - "Есть ли свободные нумера? - "Есть. - "Хорошо, мы займем один. "Нумера Бекорюкова помещаются в двух Флигелях, построенных по сторонам дома, куда мы послали сначала состоявшаго при нас солдата Горбунова. Он разговаривает с хозяйкою нумеров, а мы сидим в тарантасе на улице против окон внутри освещеннаго дома. Вечер тихий, теплый; окна в доме открыты. Нам все в нем видно и все слышно. Видим, что хозяйка играет в карты с двумя ксендзами (сосланными в Варнавинъ), и когда Горбунов на вопрос ея отвечал, что приехал "генерал изъ Петербурга, Мельников", то она встала из-за карт, захлопоталась, и мы слышим, что она по-французски отдает кому-то приказание показать нам свободные нумера. Между тем время идет, и я начинаю волноваться. Является какая-то женщина, лет тридцати, которая объявляет, что нумера есть, но ключ от них потерян. Я довольно жестко говорю ей с укором: "Хороши у вас нумера, хорош порядок, когда ключи пропадают. Да дайте же кого-нибудь из прислуги". - "Прислуга у нас вся больна, - отвечает, как бы извиняясь, женщина: - вотъ кухарка занемогла, лакей занемог. - "Да что мне за дело до ваших лакеев, говорю я, покажите скорее нумер. "Ключ нашелся; мы входимъ в комнату. Та женщина с нами. - "Ну, говорю я, поставьте нам самовар, да нет ли у вас чего поесть. Мы были голодны. - "Самовар сейчас будет!-отвечала женщина: -я уже сама доставлю, но, кажется, ничего от обеда не осталось, кроме заливного поросенка и жаренной утки. - "Пожалуйте сюда, говорю я, и поросенка, и утку. - "Да, право, я не знаю: осталось ли? "Я опять со своими укорами: хороши у вас нумера, нечего сказать, отличный порядок и так далее. - "Какая у вас есть провизия? продолжаю я спрашивать. - "Есть говядина. - "Дичь есть? рябчики? - "Нет, рябчиков нет, а курица есть. - "Ну, давайте курицу. - "Да, ведь, плита не разведена. "Я начинаю горячиться, когда она начинает меня уверять, что некому затопить плиты, потому что прислуга больна. Наконец, я требую курицу, говоря, что сам ее приготовлю в паровой кострюле. Приносят курицу. - "Изжарьте ее! говорю я женщине. - "Я не умею!-отвечает она. "Я опять волнуюсь, браню город Варнавинъ, браню нумера... В это время приходит Поливанов, и дело разъясняется. Думая, что мы в трактире, мы попали в дом варнавинскаго помещика, душ в триста, мирового посредника и почетнаго мирового судьи. Игравшая в карты с ксендзами была его жена, а приносившая курицу - его племянница. Самого помещика не было дома, но он вскоре прехал. "Можно представить мое глупое положение, когда я узнал, что я распоряжался и шумел в самую полночь не в трактире, а в доме почтеннаго семейства, и образованную, милую даму принял за трактирную служанку. Оказалось, что Бекорюковы предобрейшие и патриархально гостеприимные люди, у которых в двух флигелях останавливаются презжающие в город их знакомые, и что в городе эти флигеля известны под именем "нумеров". Пошли извинения, объяснения, а затем явились и чай, и поросенок, и утка, и даже та курица, которую принесла мне хозяйская племянница". ============================================================================== Из дневника 1858 года. "Марта 31-го. Поутру был с докладом. Министр был очень весел и любезен и совершенно не заметно, чтобы что-нибудь походило на его увольнение. Впрочем, говорят, его делают графом, каким-то первым чином двора и оставляют все содержание; стало быть, унывать ему нечего. Но не захочется ему расстаться с делом освобождения крестьян, которое он с великим князем Константином Николаевичем, да отчасти с графом Блудовым двинули, а то бы оно и до сих пор лежало в проекте. Секретный комитет собирался бы по субботам, Панин сказывал бы членам его сказки, и вопрос не подвинулся бы ни на шаг. Особенно зол князь Орлов *) на Ланского. Он еще около новаго года, когда закладывал свое имение, сказал: "Ланской графство-то получит, а шею-то себе, все-таки, сломит" *). Орлов предводитель тайной партии; Панин, Ростовцов его сподручники. Закревский, друг Орлова, свирепствует в Москве. Князь Долгоруков слишком ограничен, чтобы иметь какое-нибудь мнение, а Мих. Ник. Муравьев заботится не о свободе крестьян, а о свободе своего кармана, о лентах владмирской и андреевской. Из-за денег да из-за лент он отца родного зажарит. Княжевич едва-ли будетъ действовать решительно по крестьянскому делу. Что делает там князь Павел Павлович Гагаринъ *), не слышно, но он, сколько мне известно по нижегородским его делам, пропитан помещичьим духом съ ног до головы. Итак, кто же остается? Великий князь Константин Николаевич, граф Блудов и Ланской. Но Блудов очень болен, почти совсем разрушается; весною он едет на свадьбу к сыну за границу, со свадьбы на воды, чтобы лечиться, но вероятно, оттуда приедет прямо на кладбище Александроневской лавры *). Затем, если еще Ланского не будет, кто же в главном комитете останется из людей преданных общественной пользе России - один великий князь Константин Николаевич. Темная партия сетьми опутывает государя. Добраго что-то не предвещает настоящее. Тучки набегают на ясное небо России, а Муравьев с Ростовцовым метят в Аракчеевы. "У министра внутренних дел был Салтыков Михаил Евграфович; откланивался перед отъездом в Рязань на вице-губернаторство. Ланской говорил ему, между прочим, чтобы он был поосторожнее в литературных делах, потому что Богъ знает, с которой стороны ветер подует. Салтыков в приемной у министра мне говорил, что, "если будет министром внутреннихъ дел Ростовцов, нам с ним лафы не будет". Клингенберг, вновь назначенный губернатором в Рязань, прежде был у нас в хозяйственном департаменте чиновником особых поручений, потом перешел в штаб военно-учебных заведений и был протеже Ростовцова, который и сделал его управляющим, делами совета военно-учебных заведений, дал чин действительнаго статскаго советника и, камергерский ключ в какие-нибудь четыре года и наконец исходатайствовал у государя назначение его губернатором, такъ что Ланской подавал о нем всеподданейший доклад по приказанию. Когда Клингенберг*) явился к Якову Ивановичу благодарить его, Ростовцов сказал, между прочим: "Ну очень рад, мой милый, что ты получил губернию; губерния прекрасная, близко от Москвы..." и проч., и проч.. "одно жаль, вице-губернатора к тебе назначили какого! Пишетъ все это губернские очерки - человек беспокойный!" Это было еще великим постом, когда никаких слухов о назначении Ростовцова министром внутренних дел еще не было и Клингенберг рассказал Салтыкову этот разговор. Ну, а уже я с Салтыковым по одной дорожке иду: что Щедрину, то и Печерскому.
|
||
|
Posted: 15-09-2013, 09:03
(post 4, #1079813)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
Джордж Оруэлл - "Редьярд Киплинг" (1942) з.ы. в тырнете оцифровки этого примечательного эссе ещё не видел, поэтому тоже размещаю здесь  Жаль, что мистер Элиот взял такой оправдательный тон в своем длинном предисловии к избранным стихотворениям Киплинга "А Choice of Kipling Verse" (1941). Но избежать этого было нельзя, потому что, прежде чем говорить о Киплинге, надо развеять легенду, сложенную двумя категориями людей, которые его не читали. Вот уже пятьдесят лет Киплинг - притча во языцех. В пяти поколениях литераторов каждый просвещенный человек презирал его, и в итоге девять десятых этих просвещенных людей забыты, а Киплинг, в ка-ком-то смысле, по-прежнему с нами. Мистер Элиот не объяснил вразумительно этого факта, потому что, отвечая на поверхностное и привычное обвинение Киплинга в "фашизме", он впадает в другую крайность и защищает его там, где его нельзя защитить. Бесполезно делать вид, что цивилизованный человек может принять или хотя бы простить взгляды Киплинга на жизнь в целом. Бесполезно утверждать, например, что, описывая, как британский солдат избивает "нигера" шомполом, дабы отнять у него деньги, Киплинг говорит об этом просто как репортер и определенно не одобряет описываемого. В произведениях Киплинга нигде нет ни малейших признаков того, что он не одобряет подобное поведение, наоборот, в них ясно чувствуется садистическая нота, безотносительно к грубости, которая должна быть свойственна такого рода писателям. Киплинг - действительно, империалист и шовинист, бесчувственный в нравственном отношении и отвратительный эстетически. Лучше признать это с самого начала, а потом попытаться выяснить, почему он сохранился, а утонченные люди, смеявшиеся над ним, сносились так быстро. Однако на обвинения в "фашизме" ответить надо, потому что первый ключ к пониманию Киплинга, моральному и политическому, - то, что он не был фашистом. Он был дальше от фашизма, чем удается быть сегодня большинству гуманных и самых "прогрессивных" людей. Интересный пример того, как попугайски повторяют цитаты из него, не пытаясь свериться с контекстом и выяснить их смысл, - строка из "Отпустительной молитвы": "Lesser breeds without the Law" ("Меньшие племена, не знающие закона"). Над этим стихом с удовольствием смеются в жантильно-левых кругах. Предполагают, конечно, что "меньшие племена" - это "туземцы", и воображение рисует саиба в тропическом шлеме, пинающего кули. В контексте смысл этого стиха прямо противоположный. Фраза "меньшие племена" почти наверняка относится к немцам, в особенности к авторам-пангерманистам, которые "не знают закона", то есть, беззаконны, а вовсе не бессильны. Всё стихотворение, которое принято считать разнузданным хвастовством, на самом деле, - осуждение силовой политики, и британской, и германской. Две строфы стоит процитировать (я цитирую их как политику, не как поэзию): If, drunk with sight of power, we loose Wild tongues that have not thee in awe, Such boastings as the Gentiles use, Or lesser breeds without the Law -Lord God of Hosts, be with us yet, Lest we forget - lest we forget! For heathen heart, that puts her trust In reeking tube and iron shard, All valiant dust that builds on dust, And guarding, call not Thee to guard, For frantic boast and foolish word -Thy mercy on Thy People, Lord! Фразеология Киплинга во многом идет от Библии и, без сомнения во второй строфе он имел в виду текст псалма 127: "Except the Lord build the house, they labour in vain that build it; except the Lord keep the city, the watchman waketh in vain" (Псалом 126. "Если Господь не со-зиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж"). Это не тот текст, который произведет большое впечатление на постгитлеровское сознание. В наше время никто не верит в санкцию высшую, нежели военная сила; никто не верит, что силу можно одолеть иначе, как большей силой. Нет Закона, есть только сила. Я не говорю, что это убеждение истинно, а говорю только, что этого убеждения держатся все современные люди. Те, кто делает вид, будто убеждены в ином, - либо интеллектуальные трусы, либо поклоняются силе в глубине души, либо просто отстали от века. Взгляды Киплинга - дофашистские. Он еще верит, что падению предшествует гордость, и что боги наказывают hubris. Он не предвидит появления танка, бомбардировщика, радио, тайной полиции и их воздействия на психологию. Но, говоря это, отрицаю ли я то, что сказал о шовинизме и жестокости Киплинга? Нет, я просто говорю, что взгляды империалиста XIX века и взгляды современного гангстера - не одно и то же. Киплинг целиком принадлежит периоду 1885-1902 годов. Мировая война и ее последствия поселили в нем горечь, но ни из одного события после бурской войны он, кажется, ничего нового для себя не извлек. Он был пророком британского империализма в его экспансионистской фазе (роман "Свет погас" воспроизводит атмосферу того времени даже лучше, чем его стихотворения). И к тому же неофициальным историком британской армии, старой наемнической армии, которая стала преображаться в 1914 году. Вся его уверенность, его нахрапистая витальность - следствие ограничений, неведомых фашисту или полуфашисту. К концу жизни Киплинг сделался угрюм, и причиной тому, несомненно, было политическое разочарование, а не писательское тщеславие.' История почему-то пошла не по плану. После величайшей своей победы Британия оказалась менее значительной мировой державой, чем прежде, и Киплингу хватило проницательности, чтобы это понять. Классы, которые он идеализировал, растеряли свою доблесть, молодые стали гедонистами или недовольными, желание окрасить карту в красный цвет испарилось. Он не мог взять в толк, что происходит, потому что никогда не понимал экономических сил, движущих империалистической экспансией. Замечательно, что Киплинг, кажется, не сознает, так же, как обыкновенный солдат или колониальный администратор, что империя - прежде всего, прибыльный концерн. Империализм представляется ему чем-то вроде насильственного обращения в христианскую веру. Ты наводишь на толпу безоружных "туземцев" пулемет Гатлинга, а потом даешь им "Закон", который включает в себя дороги, железные дороги и здание суда. Поэтому он не мог предвидеть, что те же мотивы, которые вызвали империю к жизни, в конце концов, ее разрушат. Тот же мотив, например, который побудил расчистить малайские джунгли под каучуковые плантации, стал причиной того, что теперь эти плантации целенькими достались японцам. Современные тоталитаристы знают, что они делают, а англичане девятнадцатого века не знали, что они делали. И та, и другая позиция имеет свои преимущества, но Киплинг так и не смог перейти с одной на другую. Притом, что он был художником, взгляды его - такие же, как у бюрократа, который презирает "бокс-вал-лу". И зачастую до конца дней не может понять, что "бокс-валла"-то и заказывает музыку. Но именно потому, что Киплинг отождествляет себя со служивыми людьми, он обладает одним качеством, которое почти несвойственно "просвещенной" публике, - чувством ответственности. Левые из среднего класса ненавидят его за это не меньше, чем за его жестокость и вульгарность. Все левые партии в индустриальных странах в основе своей симулянтки, потому что сделали своим занятием борьбу с тем, чего на самом деле разрушить не хотят. Цели у них интернационалистские, и в то же время они стараются сохранить уровень жизни, который с этими целями несовместим. Все мы живем, грабя азиатских кули, и "просвещенные" среди нас требуют, чтобы этим кули дали свободу; но наш уровень жизни и, следовательно, наша "просвещенность" требует, чтобы ограбление продолжалось. Гуманист всегда лицемер; Киплинг это понимал, и отсюда, может быть, его умение отчеканить эффектную фразу Трудно обрисовать кривой на один глаз пацифизм англичан лаконичнее, чем в такой строке: "смеетесь над мундирами, стерегущими ваш сон". Правда, Киплинг не понимает экономической стороны взаимоотношений Блимпа и высоколобого. Не понимает, что карту окрашивают в красный цвет, главным образом, для того, чтобы эксплуатировать кули. Видит он не кули, а индийского государственного чиновника; но даже при таком взгляде отлично понимает, как распределены функции, кто кого защищает. Он ясно видит, что люди могут быть высоко цивилизованными лишь тогда, когда менее цивилизованные охраняют их и кормят. Насколько, в самом деле, отождествляет себя Киплинг с воспетыми им администраторами, солдатами и инженерами? Меньше, чем иногда полагают. Наделенный блестящим умом, он вырос в обывательском окружении, в молодости много странствовал, и, благодаря какой-то особенности характера, быть может, отчасти невротической, стал предпочитать деятельного человека чувствительному. Англичане, служившие в Индии, - если взять наименее симпатичных из его идолов, - по крайней мере, были людьми, которые делали дело. Возможно, дурное дело, но они изменили лик земли (поучительно будет взглянуть на карту Азии и сравнить железнодорожную сеть Индии с сетями окружающих стран); между тем, они ничего бы не достигли, не удержались бы у власти и одной недели, если бы взгляды у них были такие, как, скажем, у Э. М. Форстера. Киплинговская литературная картина английской Индии XIX века, пусть безвкусная и поверхностная, - единственная, какая у нас есть, и создать ее он сумел только благодаря тому, что был достаточно груб, чтобы существовать и держать язык за зубами в клубах и полковых столовых. Но сам он не слишком был похож на людей, которыми восхищался. Из нескольких частных источников я узнал, что многие англичане в Индии, современники Киплинга, не любили и не одобряли его. Они говорили и, без сомнения справедливо, что он совсем не знал Индии, а, кроме того, с их точки зрения, был слишком интеллектуалом. В Индии он общался "не с теми" людьми, а из-за смуглой кожи его ошибочно подозревали в том, что у него есть примесь азиатской крови. Многое в его эволюции объясняется тем, что он родился в Индии и рано бросил школу. В несколько иных обстоятельствах он мог бы стать хорошим романистом или первоклассным автором песен для мюзик-холла. Но насколько верно, что он был вульгарным ура-патриотом, чем-то вроде рекламного агента у Сесила Родса? Это верно, но неверно, будто он был подпевалой и конъюнктурщиком. В зрелые годы, а может быть, и с самого начала он никогда не стремился угодить публике. По словам мистера Элиота, в вину ему ставят то, что он выражал непопулярные взгляды в популярной форме. Это сужает вопрос, поскольку подразумевается, что "непопулярные" означает непопулярные у интеллигенции. На самом же деле, "идеи" Киплинга не нужны были широкой публике, и она их не приняла. В 90-е годы, как и сейчас, народ был настроен антимилитаристски, империя ему надоела, и патриотизм его был бессознательный. Официальные поклонники Киплинга, как и сейчас, принадлежали к "служилому" среднему классу - это люди, которые читают "Блэквудс". В глупые первые годы двадцатого века Блимпы, наконец, открыли кого-то, кто мог называться поэтом и был на их стороне, возвели Киплинга на пьедестал, и некоторые из самых сентенциозных его стихотворений, такие, как "Если..." получили чуть ли не библейский статус. Но вряд ли Блимпы читали его внимательнее, чем Библию. Он часто говорит то, что они никогда не одобрили бы. Немногие, критиковавшие Англию изнутри, говорили о ней злее, чем этот вульгарный патриот. Нападал он, как правило, на британский рабочий класс, но не всегда. Эта фраза о "дураках во фланели у крикетных ворот и грязных олухах у футбольных" по сей день торчит, как заноза, и относится она в равной степени к матчам Итон-Харроу и к финалам футбольного кубка. Некоторые его стихи о бурской войне по своему содержанию удивительно современны. В "Стелленбосе", написанном, вероятно, около 1902 года, сжато выражено то, что говорил в 1918 году - да и сейчас говорит, - каждый разумный офицер пехоты. Романтические идеи Киплинга насчет Англии и империи, может быть, и не коробили бы, если бы к ним не примешивались ходячие классовые предрассудки. Если рассмотреть его лучшие и самые характерные произведения - его солдатские стихи, в особенности "Казарменные баллады", замечаешь, что больше всего их портит покровительственный тон. Киплинг идеализирует армейского офицера, в особенности младшего офицера, доходя до идиотизма, но рядовой солдат, пусть привлекательный и романтический, непременно должен быть комичен. Он всегда должен выражаться на каком-то стилизованном кокни, воспроизводимом не во всех деталях, но вполне последовательно. Очень часто результат приводит в смущение, как юмористическая декламация на церковном собрании. И этим объясняется тот любопытный факт, что стихотворения Киплинга часто можно улучшить, сделать менее игривыми и крикливыми, просто пройдясь по ним и пересадив их с кокни на литературную речь. В особенности это относится к его рефренам, нередко исполненным подлинного лиризма. Достаточно двух примеров (один о похоронах, а другой о свадьбе): So it's knock out your pipes and follow me! And it's finish up your swipes and follow me! Oh, hark to the big drum calling. Follow me - follow me home! Или: Cheer for the Sergeant's wedding - Give them one cheer more! Grey gun-horses in the lando, And a rogue is married to a whore! Здесь я восстановил нормальное правописание. Киплингу следовало бы самому догадаться. Следовало бы понять, что две заключительные строки первой из этих строф прекрасны, и не стоило смеяться здесь над простонародным выговором. В старых балладах лорд и крестьянин говорят на одном языке. Для Киплинга это невозможно, он видит людей в искаженной, классовой перспективе, и жизнь отплатила ему за это: одна из его лучших строк испорчена, потому что "follow me 'ome" гораздо уродливее, чем "follow me home". Но даже там, где музыкально от этого ничего не меняется, игривость его эстрадного кокни раздражает. Впрочем, его гораздо чаще цитируют вслух, чем читают на бумаге, и, цитируя его, большинство людей инстинктивно вносят изменения. Можно ли представить себе, чтобы рядовой солдат 1890-х годов или сегодняшний читал "Казарменные баллады" с чувством: вот писатель, который говорит за меня! Очень трудно представить. Любому солдату, способному прочесть книгу или стихотворение, сразу бросится в глаза, что Киплинг почти не замечает классовой войны, идущей в армии, так же как и вне ее. Дело не только в том, что солдат у него комичен, - солдат у него патриот с феодальным сознанием, готов восхищаться своими офицерами и горд тем, что служит королеве. Конечно, отчасти это так, иначе невозможно было бы воевать, но "Что я сделал для тебя, Англия, моя Англия?" - вопрос, характерный для среднего класса. Почти любой рабочий человек немедленно продолжил бы его другим: "Что Англия сделала для меня?". В той мере, в какой Киплинг способен это понять, он объясняет это "сильным эгоизмом низших классов" (его собственное выражение). Когда он пишет не о британцах, а о "лояльных" индийцах, мотив "Салям, саиб" иной раз бывает развит у него до отвратительности. Но нельзя отрицать, что он гораздо больше интересовался простым солдатом, гораздо больше беспокоился о том, чтобы с ним обходились справедливо, чем большинство "либералов" в те дни или в наши. Он видит, что о солдате не заботятся, что ему гнусно не доплачивают, что его лицемерно презирают те, чьи доходы он охраняет. "Мне стали понятны, - говорит он в посмертных мемуарах, - явные ужасы жизни рядового и мучения, которым он подвергается без нужды". Его обвиняют в том, что он прославляет войну. Возможно, и прославляет, но не так, как принято, не изображая ее чем-то вроде футбольного матча. Как и большинство людей, умевших писать военные стихи, Киплинг ни разу не побывал в бою, но войну он видит в реалистическом свете. Он знает, что пули причиняют боль, что под огнем каждый испуган, что простой солдат никогда не понимает, из-за чего война, что всё, происходящее за пределами его участка сражения, ему неизвестно, и что британские войска, как и все прочие, часто спасаются бегством: I 'eard the knives be'ind me, but I dursn't face my man, Nor I don't know where I went to, 'cause I didn't stop to see, Till I 'eard a beggar squealin' out for quarter as 'e ran, And I thought I knew the voice an' - it was mine! Слегка модернизировать стиль - и это могло оказаться в какой-нибудь из разоблачительных книг о войне, написанных в 1920-х годах. Или вот: An' now the hugly bullets come peckin' through the dust, An' no one wants to face 'em, but every beggar must; So, like a man in irons which isn't glad to go, They moves 'em off by companies uncommon stiff and slow8. Сравните с этим: "Forward the Light Brigade!" Was there a man dismayed? No! though the soldier knew Someone had blundered. Может быть, Киплинг и преувеличивает ужасы: по нынешним меркам войны времен его молодости и войнами трудно назвать. Возможно, это объясняется его невротич-ностью, жаждой жестокости. Но он, по крайней мере, знает, что солдаты, брошенные на неприступную цель, приходят в смятение, и что четыре пенса в день - не щедрая пенсия. Насколько полна и правдива оставленная нам Киплингом картина наемнической армии конца XIX века, укомплектованной старослужащими? О ней, так же как и о картине английской Индии XIX века, надо сказать, что это не только лучшая, но и едва ли не единственная картина, какой мы располагаем. Он запечатлел колоссальный материал, о котором можно было бы узнать только из устных рассказов или из нечитабельных полковых историй. Возможно, его картина армейской жизни кажется более полной и точной, чем на самом деле, потому что любой англичанин из среднего класса, скорее всего, знает достаточно, чтобы самому заполнить пробелы. Во всяком случае, читая эссе о Киплинге, недавно опубликованное мистером Эдмундом Уилсоном, я дивился тому, сколько вещей, знакомых нам до скуки, почти непонятны американцу. Но из ранних произведений Киплинга действительно возникает яркая и не слишком искаженная картина старой, до-пулеметной армии: душные казармы в Гибралтаре или Лакнау - красные мундиры, белые ремни и круглые шапки, пиво, драки, порки, повешения и распятия, горны, запах овса и конской мочи, горластые сержанты с полуметровыми усами, кровавые и всегда бестолковые стычки, переполненные транспорты, холера в лагерях, "туземные" любовницы и под конец смерть в работном доме. Это грубая, вульгарная картина, где патриотический мюзик-холльный номер мешается с самыми натуралистическими пассажами в духе Золя, но потомки смогут получить по ней представление о том, какова была армия профессиональных наемников. И примерно на том же уровне они узнают кое-что о британской Индии в те дни, когда не было ни автомобилей, ни холодильников. Ошибочно полагать, что у нас появились бы лучшие книги об этом, если бы, например, Джордж Мур или Гиссинг", или Томас Гарди обладали опытом Киплинга. Такого случиться не могло. Не могло в Англии родиться книги, подобной "Войне и миру" или меньшим произведениям Толстого, таким как "Севастопольские рассказы" или "Казаки", - не потому что недоставало талантов, а потому что человек, наделенный чувствительностью, необходимой для написания таких книг, никогда не завязал бы соответствующих связей. Толстой жил в большой военной империи, где считалось естественным, что молодой человек из хорошей семьи должен прослужить несколько лет в армии, тогда как Британская империя была и остается демилитаризованной настолько, что континентальным наблюдателям это представляется почти невероятным. Цивилизованные люди не слишком охотно покидают центры цивилизации, и того, что можно назвать колониальной литературой, на большинстве языков определенно не хватает. Понадобилось вполне невероятное сочетание обстоятельств, чтобы произвести кричаще яркое киплинговское полотно, где рядовой Ортерис и миссис Хоксби позируют на фоне пальм под звуки храмовых колоколов, и одним из необходимых обстоятельств было то, что сам Киплинг лишь полуцивилизован. Киплинг - единственный английский писатель нашего времени, пополнивший нашу речь крылатыми выражениями. Фразы и неологизмы, которые мы употребляем, не помня их происхождения, не всегда достаются нам от почитаемых писателей. Странно слышать, например, как нацистское радио называет русских солдат "роботами", - бессознательно позаимствовав слово у чешского демократа, которого наверняка бы убили, попади он к ним в руки. Вот полдюжины чеканных киплинговских фраз, которые читаешь в передовицах бульварных газет или слышишь в барах от людей, едва ли знающих его имя. Мы увидим, что они обладают одной общей характеристикой: "Запад есть Запад, Восток есть Восток". "Бремя белых". "Что знают об Англии те, кто только Англию знает?". "Самка этого вида смертоносней самца". "Там, к востоку от Суэца". "Дань Дании". Есть и другие, причем некоторые пережили свой контекст на много лет. До недавнего времени еще была в ходу фраза: "Убить Крюгера языком" и, возможно, что прозвище немцев "гунны" запущено Киплингом; по крайней мере, оно вошло в обиход в 1914 году, как только заговорили пушки. А у фраз, приведенных выше, общее то, что произносят их всегда полупрезрительно (как, скажем, "Я буду королевой мая, мама, я буду королевой мая"), но рано или поздно все-таки произносят. Презрение "Нью стейтсмен" к Киплингу несравнимо ни с чем, но сколько раз в период Мюнхена сам же "Нью стейтсмен" цитировал "Дань Дании"?*. Дело в том, что Киплинг, кроме его трактирной мудрости и умения дать броский образ в немногих словах ("Над пальмой и сосной"... "Там, к востоку от Суэца"... "На дороге в Мандалей"), как правило, говорит о насущном. С этой точки зрения неважно, что мыслящие и порядочные люди обычно придерживаются противоположного мнения. "Бремя белых" мгновенно очерчивает реальную проблему, даже если ты считаешь, что его надо заменить на "бремя черных". Можно категорически не соглашаться с политической позицией, выраженной в "Островитянах", но нельзя сказать, что это легкомысленная позиция. Киплинг мыслит вульгарно, но мыслит о том, что занимает человека всегда. В связи с этим возникает вопрос: поэт он или стихотворец? Мистер Элиот определяет сочинения Киплинга как "стихи", а не "поэзию", но добавляет, что это "замечательные стихи", и поясняет далее, что если о некоторых произведениях писателя "нельзя сказать, стихи это или поэзия", то назвать его можно только "замечательным стихотворцем". Киплинг, следовательно, был версификатором, иногда создававшим поэзию, - жаль только, что мистер Элиот не назвал поэтические произведения конкретно. Беда в том, что когда дело доходит до эстетической оценки стихов Киплинга, мистер Элиот становится в оборонительную позицию и потому не может выражаться ясно. Чего он не говорит, и о чем, на мой взгляд, надо раньше всего сказать, обсуждая Киплинга, - большинство стихотворений Киплинга чудовищно вульгарны, ощущение от них такое же, как при виде третьеразрядного исполнителя в мюзик-холле, декламирующего "Косичку By Фан-Фу" в пурпурном свете софитов. Однако же многое в них может доставить удовольствие людям, понимающим, что такое поэзия. В худших вариантах, к тому же наиболее энергичных, таких как "Ганга Дин" или "Денни Дивер" стихи Киплинга доставляют почти постыдное удовольствие, как дешевые сладости, вкус к которым люди иногда сохраняют втайне до зрелых лет. Но даже лучшие отрывки оставляют ощущение, что тебя соблазнили чем-то поддельным - хотя соблазнили, безусловно. Если ты не сноб и не лгун, то не станешь утверждать, что ни один ценитель поэзии не получит удовольствия от таких строк: For the wind is in the palm trees, and the temple bells they say, "Come you back, you British soldier, come you back to Mandalay" И, однако, эти стихи не поэзия в том смысле, в каком являются поэзией "Феликс Ранд ал" или "Когда свисают с крыши льдинки". Чтобы определить место Киплинга, лучше, наверное, не жонглировать словами "стихи" и "поэзия", а просто назвать его хорошим плохим поэтом. В поэзии он то, что Гарриет Бичер-Стоу - в романистике. И само существование такого рода произведений, давно стяжавших репутацию вульгарных и при этом неизменно читаемых, кое-что говорит о времени, в котором мы живем. На английском языке много хорошей плохой поэзии, и вся она, как мне кажется, написана после 1790 года. Примеры хороших плохих стихотворений - я намеренно привожу самые разные - "Мост вздохов", "Когда мир молод", "Атака легкой бригады", "Диккенс в стане", "Погребение сэра Джона Мура", "Дженни меня поцеловала", "Кит из Рейвелстона", "Касабьянка". От всех них разит сентиментальностью, и, однако - может быть, не эти именно стихотворения, а стихотворения такого рода - способны доставить истинное удовольствие людям, ясно сознающим, что в них нехорошо. Из хороших плохих стихотворений можно было бы составить солидную антологию, если бы не то обстоятельство, что хорошие плохие стихи, как правило, слишком хорошо известны и не нуждаются в перепечатке. Бессмысленно делать вид, что в наш век "хорошая" поэзия может быть по-настоящему популярной. Это искусство наименее ходовое, ему поклоняется и должен поклоняться очень узкий круг людей. Тут, наверное, требуется некоторое уточнение. Истинная поэзия бывает приемлема для народа, когда она выдает себя за что-то другое. Примеры тому мы видим в народной английской поэзии, всё еще сохраняющейся, в некоторых стихах для детей, в мнемонических стихах и в песнях, сочиняемых солдатами, иногда на музыку горнов. Но вообще наша цивилизация такова, что само слово "поэзия" вызывает враждебные смешки или, в лучшем случае, холодное раздражение, какое испытывает большинство людей при слове "Бог". Если вы хорошо играете на гармони, то, придя в ближайший бар, за пять минут соберете благодарную аудиторию. Но как отнесется к вам та же аудитория, если вы, например, захотите почитать ей сонеты Шекспира? Хорошая плохая поэзия, однако, может дойти до самой неожиданной аудитории, если заранее создана подходящая атмосфера. Несколько месяцев назад, выступая по радио, Черчилль произвел большое впечатление, процитировав "Индевор" Клафа. Я слушал его речь с людьми, которых решительно нельзя обвинить в любви к поэзии, и могу с уверенностью сказать, что стихи их тронули, а не смутили. Но даже Черчиллю не сошло бы с рук, если бы он процитировал что-нибудь получше. Насколько может быть популярным автор стихов, Киплинг был - и, наверное, до сих пор - популярен. При его жизни некоторые его стихотворения вышли далеко за границы мира читающей публики, мира школьных актов, бойскаутских декламаций, мягких кожаных обложек, календарей, выжигания на дереве - и в широчайший мир мюзик-холлов. И, однако, мистер Элиот считает нужным составить сборник его стихотворений, тем самым признаваясь в пристрастии, которое с ним разделяют другие люди, хотя у них не всегда достает смелости сказать об этом. Тот факт, что хорошая плохая поэзия существует, свидетельствует о некотором эмоциональном сродстве между интеллектуалом и простым человеком. Интеллектуал отличается от простого человека, но лишь в некоторых деталях личности, притом - не всё время. Но в чем же особенность плохого хорошего стихотворения? Хорошее плохое стихотворение - красивый памятник очевидному. Оно запечатлевает в запоминающейся форме - ибо стихи, кроме всего прочего, еще и мнемоническое устройство, - определенные чувства, которые могут разделять почти все. Достоинство стихотворения "Когда весь мир молод" заключается в том, что при всей его сентиментальности, чувство в нем - "подлинное" чувство, в том смысле, что рано или поздно вам в голову придет та мысль, которая в нем выражена, и тогда, если вы знаете это стихотворение, - оно вспомнится вам и покажется лучше, чем прежде. Такие стихотворения - нечто вроде рифмованных пословиц, и действительно популярная поэзия, как правило, афористична или сентенциозна. Достаточно одного примера из Киплинга: White hands cling to the bridle rein, Slipping the spur from the booted heel; Tenderest voices cry "Turn again" Red lips tarnish the scabbard steel: Down to Gehenna or up to the Throne He travels the fastest who travels alone. Вульгарная мысль, выраженная сильно. Она, может быть, не верна, но такая мысль бывает у каждого. Рано или поздно будет случай, когда вы сами почувствуете, что тот едет быстрее, кто едет один, - а мысль уже - вот она, готовая, так сказать, дожидалась вашего случая. Так что, может быть, однажды услышав эту строку, вы ее вспомните. Одна из сильных сторон хорошего плохого поэта Киплинга, о чем я уже говорил, - чувство ответственности, благодаря которому он обрел мировоззрение, пусть оно и оказалось ложным. Не имея прямых связей с какой-либо политической партией, Киплинг был консерватором - существом, ныне исчезнувшим. Те, кто сегодня называет себя консерватором, - либо либералы, либо фашисты, либо сообщники фашистов. Он отождествлял себя с властью, а не с оппозицией. В одаренном писателе нам это кажется странным и даже противным, но Киплингу это пошло на пользу в том смысле, что дало ему определенное понимание действительности. Перед властью всегда стоит вопрос: "В таких-то и таких-то обстоятельствах, что надо сделать?", тогда как оппозиция не обязана брать на себя ответственность и принимать реальные решения. Там, где оппозиция постоянна и получает пенсию, как в Англии, соответственно убывают ее умственные способности. Кроме того, всякого, кто исходит из пессимистического реакционного взгляда на жизнь, обычно убеждают в его правоте события, потому что утопия никогда не наступает, и "боги азбучных истин", как выразился сам Киплинг, всегда возвращаются. Киплинг продался британскому правящему классу - не финансово, а эмоционально. Это деформировало его политическое мышление, ибо британский правящий класс был не таким, как он воображал, и погрузило его в бездну глупости и снобизма, зато наделив одним преимуществом: он, по крайней мере, пытался представить себе, что такое действие и ответственность. Громадное достоинство его в том, что он не остроумен, не "дерзок", не имеет желания эпатировать буржуа. Он оперировал по большей части банальностями, и поскольку мы живем в мире банальностей, многое из сказанного им попало в точку. Даже худшие его глупости кажутся менее поверхностными и меньше раздражают, чем "просвещенные" речения того же периода, такие, как эпиграммы Уайльда или шутихи-лозунги, запущенные под занавес "Человека и сверхчеловека" Бернардом Шоу. февраль 1942 г.
|
||
|
Posted: 22-09-2013, 10:41
(post 5, #1079964)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
Записки М.В. Сабашникова wiki Посещения Киева по делам (1900 г.)  Естественно, что мне приходилось по делам завода бывать Киеве. В особенности после избрания меня в члены правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, собиравшегося регулярно раз в месяц. Теперь пришлось узнать Киев с другой стороны, чем раньше,когда мы к нему причаливали на своем "Зайсане", интересуясь, чудесными видами да памятниками старины и искусства. Для посещения Киева с подобными запросами, конечно, самое выгодное время - это весна, когда Днепр, выйдя из берегов, затопляет всю левобережную равнину, Тарханов остров, и даже на самых отдаленных от реки улицах при малейшем дуновении воздуха чувствуется в легких влага речного простора. Но это период относительно тихий. Самое же оживленное время в Киеве бывало на "Контрактах", когда город буквально бывал наводнен "контрактовичами", присутствие которых сказывалось на самых даже глухих улицах. Все номера в гостиницах бывали расписаны заблаговременно, в ресторанах давка, театры и концерты переполнены. Спекуляцией охвачены бывали в "Контракты" не одни только дельцы - банкиры, заводчики, коммерсанты, маклеры. Кто только в это время ни рисковал в надежде на удачу! А кто не участвовал в аферах, у того вчуже слюньки текли от одних только разговоров. Булыжники на Крещатике, казалось, перешептывались между собой, что Добрый четверть часа тому назад купил перечисления, а Бродский продал сахар по таким-то и таким-то ценам. Все же и при деловых посещениях Киева я неизменно отдавал дань своим первым в нем привязанностям. Я старался в каждый свой приезд обязательно побывать в Софийском соборе. Давно отпавши от всякой религиозности, я все же находил большое, чисто эстетическое удовольствие от пребывания в этом древнем удивительном соборе. Любил я особенно посещать его во время всенощной службы. На хорах, против алтаря, у меня было излюбленное местечко. Как хороши были оттуда очертания сводов и перекрытий в сложных ракурсах. Впереди виднелась в глубине алтаря Богородица, а на столбах по сторонам замечательная мозаика Благовещения. Когда, налюбовавшись на эту "нерушимую стену", забудешь всякие житейские попечения, начнешь разглядывать сверху молящихся внизу. Вот две гимназистки истово свечи ставят и усердно молятся. А ведь всего-то, вероятно, вымаливают себе хорошие отметки на уроках... Но уж если говорить о молящихся, то надо рассказать, чему я был свидетелем как-то в Михайловском соборе, соседнем с Софийским. Это было зимой днем, во время службы. В соборе было мало молящихся. Отлично пели, и я заслушался. Меня стали занимать какие-то глухие удары, раздававшиеся равномерно где-то, как мне казалось, в отдалении. Прислушиваясь к ним, я соображал, чт0 это могло бы быть, в уверенности, что глухие эти удары доносятся издалека. Однако, случайно обернувшись, я так и отшатнулся от неожиданности. Непосредственно за мной, немножко сбоку, стоял высокий рыжий детина громадного роста, исполинского телосложения, со всклокоченной, вероятно, никогда не чесанной рыжей бородой и рыжими же вьющимися волосами. Он равномерно становился на колени, кланялся затем до земли, звучно ударял лбом о каменные белые плиты пола, сейчас же затем вставал, выпрямлялся и начинал сначала. На полу была буквально лужа от струившегося с него пота! От него, как от взмылившейся на холоду лошади, кругом поднимаюсь облако пара. Очевидно, эта процедура продолжалась уже товольно долго... Что это за человек? Встретиться с ним на большой дороге или в глухом переулке было бы жутко. О чем молится, что просит или, верней, чуть ли не силой хочет взять у Бога? Совершил ли он жестокое преступление или ищет выздоровления жены или сына? Чем он движется сейчас - страхом, раскаянием или любовью? Не той ли это формации человек, как те, кто спасался когда-то в лаврских пещерах; ведь там среди праведников показывали нам когда-то и Илью Муромца. ... |
||
|
Posted: 22-09-2013, 13:07
(post 6, #1079965)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
Саша Чёрный "Роза Иерихона" (1924 г.) <о Бунине и "красной нови"> 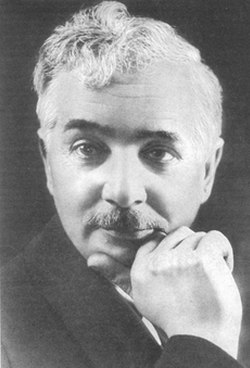 Утверждение - большая и редкая радость в наши черные, взбаламученные дни. Большевистский самум не пощадил в своем разгуле ни быта, ни науки, ни искусства. Лавина красных сборников и пролетарских антологий ни о каком ренессансе не свидетельствует. Одни - последние из стойких - молчат, ибо давняя николаевская цензура, о которой повествовал в своем дневнике Никитенко, - кроткое и доброе дитя в сравнении с красным карандашом. Другие скрепя сердце ушли в архивные изыскания, исследуют пушкинские многоточия, переводят, - в этой работе хоть какая-то тень независимости, хоть остатки русской культуры забронированы от комсомольского окрика. Художественная литература в лапах новых таперов. Неудачники и кустари вылезли из всех щелей. Одних поэтов хватило бы на население губернского города. Проза - вычурно-телеграфный код, с устремлением в зоологический натурализм фирмы Пильняк и Ко., либо бульварно-циничная эренбурговщина, - семечки, товар дешевый и ходкий. Сотни сезонных гениев, сотни взаимно заушающих одна другую теорий. Крикливый и пестрый базар. За рубежом - усталость, тяжелая литературная поденщина, ноток "воспоминаний", дробление рассказов на газетные отрывки. Нет своего угла, подлинный читатель обнищал, издательства после берлинского Аранжуэца переживают горькое и мутное похмелье. Мечтать ли о книге? И вот перед глазами - книга мастера. Рука не отяжелела, язык - главный герой бунинской прозы - также полнозвучен и насыщен краской, светом и интонациями. Так легко принять и утвердить этот дар, не подводя его ни под какие словесно-критиче-ские нормы: романтизм ли это, неореализм или какой-либо другой "изм"? Пусть судят высокие спецы. Одно несомненно ясно. У многих бормотальщиков, с чужого голоса навязывающих автору ненависть, сухость и человеконенавистничество, - глаза, очевидно, на затылке. Писать о себе и о своем нелегко и не всегда нужно. Прочтите сдержанные и возвышенно-печальные строки пролога к книге: так не ненавидят. О бунинском языке писали немало. Он завершен, и сложен, и цветист, как многокрасочная переливающаяся парча. Читаешь и видишь. "Редкая острота душевного зрения" - так пишет сам художник о счастливых часах своего творчества. Острота эта находит себе великолепное выражение в той своеобразной словесной живописи, которая так присуща Бунину. Порой слово его, сгущаясь до экстракта, становится даже избыточным. Русопет американской складки, брянский мужик-делец, попавший под экватор, не словами ли автора говорит: "стоял непрестанный шум океана, пароход медленно клало с одного бока на другой, и точно удавленники в серых саванах, с распростертыми руками, качались и дрожали возле трубы длинные парусиновые вентиляторы, жадно ловившие своими отверстиями свежесть муссона"... ("Соотечественник"). И в той же книге - иного склада и звучания завершенная простота и успокоенность речи в апокрифе "Третьи петухи", в восточной легенде "Готами". Третья струна: ядреный, простонародный лад сатирической сказки "О дураке Емеле". Сказка эта, не вполне четкая по замыслу, выходит, правда, за пределы, очерченные прологом к книге. Но язык ее убедительно показывает, как широки и разнообразны изобразительные силы автора. Переходя от рассказа к рассказу, так легко и свободно подчиняешься силе бунинской печали и любви. Любви? Да, конечно! "Старуха" - служанка, незаметный и затурканный гений дома, - мягче и любовнее ее бы и Глеб Успенский не зарисовал. "Пост", "Косцы", "Звезда любви", "Исход", "Далекое", "Преображение" - какая любовь к России, какое чуткое внимание к тихим дням человеческой жизни в их полноте и обреченности... И если завершающие рассказ "Старуха" страницы неожиданно резки и сатирически беспощадны, то такая ненависть - не родная ли сестра поруганной любви, встающей над щитом? Пора бы это давно понять. "Сны Чанга" из того же круга. Любовь зверя к человеку. Быть может, зверь слишком очеловечен. Упрекнем ли художника? Когда человек звереет, невольно обращаешь глаза к зверю: не научит ли хоть он? Любопытно сопоставить "Исход" - тихую смерть старого князя с жутким и сильным рассказом "Огнь пожирающий". Душа поэта словно содрогнулась перед машинно-кощунственным уничтожением праха, лишенного последнего "уюта". Содрогнулась как-то по-русски, вызывая такую же встречную волну в читателе. Более близкие нам по переживанию рассказы "Конец" и "Несрочная весна" читаешь с особенным волнением. Конец ли? И если "некто, уже тлевший в смрадной могильной яме, не погиб, однако, до конца" ("Несрочная весна"), то подобно ему не все ведь погибли. Не все русские глаза выколоты, не все закрылись и там, и здесь за рубежом. Кто возьмет на себя горькое право поставить последнюю мертвую точку? Холодно и жестоко построен превосходный рассказ "Петлистые уши". Дата шестнадцатого года. Такие выродки в наши дни как бытовое явление оправданы (даже с избытком!), и герой рассказа сегодня, наверно, в среде садистов-чрезвычайников свою карьеру сделал. Но, конечно, не ему - двуногой гиене, экспериментатору типа Марианны Скублинской - варшавской детоубийце, затмить в нашей памяти образ сложной и несчастной души Раскольникова. Хотелось бы сказать еще о многом: об исключительной любви Бунина к морю, - до галлюцинации выпукло развертывается оно в тиши и грозе перед глазами читателя; о разработке им внерусских тем ("Отто Штейн") - эта ответственная для русского автора задача, давно вошедшая в круг излюбленных им тем, выполнена с обычным мастерством; о строгом и суровом, но всегда волнующем подходе его к великому таинству смерти. Но рамки газетной статьи не широки. "Роза Иерихона" раскрывается, как и другие книги автора, двустворчатым складнем: проза-стихи. Создалось такое ходячее мнение: бунинская проза - высокое мастерство, но стихи... знаете... Хорошо, да - пейзажи, природа, но проза все-таки лучше. Точно таезйч), виртуоз на виолончели, для развлечения берется иногда и за флейту. И конечно, в похвалу вспомнят застрявшую в памяти строку: "хорошо бы собаку купить"... Словно кроме этой собакиничего и не было. Это, впрочем, вполне естественно. Северянинско-брюсовские пути высокой музе Бунина чужды до отвращения. Тютчевский горний путь, строгое и гордое служение красоте, сдержанная сила четкой простоты и ясности - малопривлекательны для толпящихся вокруг Парнаса модников и модниц. Кому - оклеенный фольгой сезонный трон, кому - благодарное и неизменное утверждение зрячих. Лирические страницы книги - благодарны и глубоки. Рука не устала, дух не оскудел. Только острее и суровее стало слово, наотмашь отбивающееся от надвигающихся сумерек "бесстыдного и презренного века". Трудно сказать, что больше пленяет: своеобразный ли бунинский живописный натурализм, в двух строчках зарисовывавший в лавке мясника мясные бараньи туши: В черных пятнах под засохшим Серебром нагой плевы... - крылатая ли лирика любви ("Свет незакатный", "Глупое горе"), полные ли отрешенности и полета строфы о "Петухе на церковном кресте", великолепное по бодрости и сжатости "Просыпаюсь в полумраке", либо неожиданные для автора, пронизанные сдержанной улыбкой "Одиночество", "Спутница" и стихи о трактирном хозяине-греке, который "очень черный и серьезный, очень храбрый человек". Карандаш отмечает на полях и "Феску", и "Даль", и "В цирке", и "Плоты"... Жадным глазам раздолье. Советская "Красная новь" в одной из последних книжек вновь подымает вопрос о человеконенавистничестве и ненависти Бунина. Изумительная наглость! Красные крепостники и Малюты Скуратовы требуют от своих жертв, от растоптанного ими слова - любви и кротких напевов. Они - и любовь. Какая тупая неосторожность, какое кощунство! Малюты, правда, бывают сентиментальны. Недавно ведь еще писал Горький о "задушевности" смеха Ленина и о трогательной его любви к детям. Но к лицу ли такая повадка трезвым и плечистым совкритикам с серьгой в ухе и идеологией пулемета в душе? Стихи Бунина, видите ли, - вирши Тредьяковского, одетые в траурные одежды пророка Иеремии... Что ж... Иеремия - это неплохо. "Рабы господствуют над нами и некому избавить от рук их". "Князья повешены руками их, лица старцев неуважены. Юношей берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы же не сидят у ворот; юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего; хороводы наши обратились в сетованье" ("Плач Иеремии". Гл. 5). Разве не похоже? Но почему же Тредьяковский? Дикая ли это красная безграмотность или наглость? Добрый труженик Василий Кириллович тем и памятен в русской литературе, что наступал сам себе на язык и в своих тяжелых, чугунных виршах (хотя не так уж он и виноват, - ! но это особая тема). А Бунин - зоркий, виртуозно владеющий словом художник... Зачем же сравнивать оглоблю с виолончелью? Впрочем, и у Тредьяковского не все вирши плохи. Вот, например, строфа, которую "Красная новь" могла бы поставить эпиграфом над всеми своими книжками, как по данному поводу, так и вообще: То Ложь проклята, дерзновенна, Из Ада вышедши бездонна, Святую борет Правду, злясь. |
||
|
Posted: 29-09-2013, 10:30
(post 7, #1080248)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
Константин П. Победоносцев <письма и записки, М.-П., 1923 год> Проект письма Победоносцева к А. III, по поводу драмы Толстого "Власть тьмы". <февраль 1887 года.>  remark: интересно читать сейчас, по прошествии ста с лишним лет; в сравнении с нынешним размахом "жанра" как в литературе, так и в медиа, Толстой был почти ягнёнком ...или скорее, всё же, пионером? Я только что прочел новую драму гр. Т. и не могу прийти в себя от ужаса. Его усиливает еще слух, будто бы готовятся давать ее на имп. театрах и уже разучивают роли. Не знаю, известна ли эта книга Вашему в-ву. Я не знаю ничего подобного ни в какой литературе. Едва ли сам Золя дошел до такой степени грубого реализма, какой здесь достигнул Толстой. Искусство писателя замечательное, но какое унижение искусства. Какое отсутствие идеала,-больше того, отрицание идеала, какое унижение нравственного чувства, какое оскорбление вкуса. Больно думать, что женщины с восторгом слушают чтение этой вещи и потом говорят об ней с восторгом. Скажу еще: прямое чувство доброго русского человека должно глубоко оскорбиться при чтении этой вещи - что ж будет при представлении? Неужели наш народ таков, каким его изображает Толстой? Но это изображение согласуется со всей тенденцией новейших его произведений,- и народ-де наш весь во тьме сидит, и первый он, Толстой, приносит ему новое свое евангелие. Всякая драма, достойная этого имени, предполагает борьбу, в основании которой лежит идеальное чувство. Разве есть борьба в драме Толстого? Все действующие лица - скоты, животные, совершающие ужаснейшие преступления просто, из животного инстинкта, так же, как они едят и пьянствуют,- ни о какой борьбе нет и помину. В виду зрителя, можно сказать, проходят по сцене, одно за другим, отравление мужа, несколько кровосмешений, подговор матерью сына и жены к преступлению, наконец, страшное детоубийство, с хрустением костей младенца - и все это без борьбы, без протеста, в самой грубой форме, в невозможных выражениях мужицкой речи, с развратом и пьянством. И живого лица не видать человеческого. Разве бледная Марина и старик Аким, и тот - какое-то расслабленное создание без воли. Говорят, что конец нравственный. И этого я не нахожу: покаяние Никиты в конце представляется каким-то случайным явлением, которое ничего не закрепляет в этой развратной среде, ничего не решает,- так что этот момент пропадает, можно сказать, в сплошном впечатлении безотрадного ужаса в течение всех 5 актов драмы. В том же роде есть музыкальная драма Серова „Вражья сила", но какая разница! Там глубоко потрясен зритель, но совсем иначе; там - форма чистая, там есть борьба во имя идеала и покаяние преступника, увлеченного страстью, действительно венчает драму. А у Толстого даже страсти нет, нет увлечения, как нет борьбы, а есть только тупое, бессмысленное действие животного инстинкта - и вот почему она так противна. В Преступлении и наказании Достоевского, при всем реализме художника, через все действие происходит борьба - и какая еще,- и идеал ни на минуту не пропадает из действия. А это - что такое? Боже мой, до чего мы дожили в области искусства. День, в который драма Толстого будет представлена на имп. театрах, будет днем решительного падения нашей сцены, которая и без того уже упала очень низко. Нравственное падение сцены - немалое бедствие, потому что театр имеет великое влияние на нравы, в ту или другую сторону. Воображаю первое представление. Ложи будут наполнены кавалерами и дамами высшего общества, любителями и любительницами сильных ощущений днем и ночью. Дамы в роскошных туалетах станут смотреть на представление из чуждого им „мужичьего" мира, в котором живут и двигаются тоже люди, по - похожие на животных. В каждом акте станут ощущать приятный „ужас". В 5-м акте, по случаю детоубийства, хрустения косточек и писка, матери будут плакать, но какие фальшивые слезы! Похоже будет на то, как встарину собирались нарядные дамы смотреть на публичную казнь преступников,- и тоже плакали, между конфетами и мороженым. Но это не все. Пьеса станет модною. Вся петерб. публика, от мала до велика, потянется в театр. Нравственный уровень нашей публики очень низок. Ложи наполнятся девицами и малолетними детьми. Это наверное. Какова будет в нравственн. отношении привычка - смотреть в течение неск. часов живую картину преступлений, разврата и дикого быта. Дети, вернувшись из театра, станут повторять, со смехом, слышанные фразы и слова: однова дыхнуть, скуреха, острожная шкура, в рот тебе пирог бы гороховый и т. п. Но и это далеко не все. Петерб. увеселения дают тон увеселениям во всей России. Ныне в каждом сколько-нибудь значительном городе есть театры, на которые переходит, развращая нравы праздной публики, всякая нечисть петербургских сцен. Завелись уже театры и в селах. В Москве заведен под именем народного театра „Скоморох", где толпится, по ценам от 5 до 60 кон., публика в рубахах и тулупах, слушая пьесы общего театр, репертуара, и в антрактах развлекается буфетом с водкой. Драма Толстого облетит все эти уездные и деревенские сцены. Представим себе крестьянскую и рабочую публику этого представления. Что она из него вынесет? Картина преступлений, возмущающих душу, является как обыденное явление дикого быта, без малейшего возвышения духа, без всякой борьбы. Тут люди живущие инстинктом, без идеи, увидят воочию-как просто и с какою легкостью совершаются преступления. Сказывают, что когда Толстой собрал крестьян и дворовых и читал им свою драму чтобы дознать производимое ею впечатление, один из лакеев отвечал на вопрос о Никите: „все хорошо шло, да под конец сплоховал". Не мудрено, что подобное впечатление вынесет масса зрителей, погруженная, подобно действ. лицам, тоже в тьму одних материальных инстинктов и интересов. А что почувствуют лучшие, честные представители народа? Они несомненно будут оскорблены, в лучших своих ощущениях. Они подумают: „Вот чем вздумали забавляться баре. Вот как они понимают народ. Неужели все мы, простые русские люди, в нашем быту, такие скоты и мерзавцы? Стыдно. А что если бы кто вздумал так выставить графов, да князей, да больших бояр - небось, не позволили бы, запретили бы пьесу. Это не то, что наш брат". Нехорошо, если так заговорят честные и нравственные русские люди. Стоит подумать еще и о том, как отзовется такое публичное представление русского сельского быта у иностранцев и за границей, где вся печать, дышущая злобой против России, хватается жадно за всякое сомнительное явление в России и раздувает ничтожные или вымышленные факты в картину русского безобразия. Вот, станут говорить, как сами русские изображают быт своего народа. И то уже нехорошо, что эта драма Толстого, напечатанная в виде народного издания, в громадном количестве экземпляров, продается теперь по 10 коп. разносчиками на всех перекрестках и скоро обойдет всю Россию и будет в руках у каждого от мала до велика. Хотя на ней поставлено „для взрослых", но это самое об'явление привлекает к ней всех малолетних и несовершеннолетних, и конечно во всех учебных заведениях она уже и теперь читается с жадностью. Что же будет, когда ее поставят на театрах? |
||
|
Posted: 30-09-2013, 11:30
(post 8, #1080300)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
Михаил Пришвин "Никон Староколенный" <альманах изд-ва "Шиповник" 1912г.>  I. Въ тотъ самый годъ, когда въ Новгородѣ хлѣбъ дорогой былъ, пришелъ въ село Еруново на Ильмень-озеро Никонъ Дорофеичъ Староколѣнный, степенный человѣкъ, но только безпаспортный. Что онъ у себя на родинѣ натворилъ, отчего у него паспорта не было, никому онъ не сказалъ, да не очень и спрашивали: въ то время волю давали крѣпостному народу, много такого разнаго люда слонялось по Руси, а въ глухихъ мѣстахъ давно ужъ привыкли къ безпаспортнымъ. Попъ, діаконъ, дьячокъ- такъ и набросились на Староколѣннаго: пришелъ человѣкъ, свѣтъ видавшій, мастеръ на всѣ руки и притомъ еще божественный. Въ Еруновѣ отъ рыбаковъ что услышишь хорошаго? Глухое мѣсто: впереди вода, за водой лиманы и всякія такія непроходимыя мѣста, позади мохъ. Рыбакъ по рыбѣ хорошій человѣкъ, а въ одиночку чтобы съ нимъ поговорить-о чемъ говорить попу съ рыбакомъ?-все о тѣхъ же сигахъ. А тутъ пришелъ человѣкъ новый, рѣчистый, и жена у него, Анна Ивановна, красавица и хозяйка не хуже любой попадьи. Дьячокъ сталъ ходить къ Никону Дорофеичу съ церковными книгами: вмѣстѣ читали св. Писаніе по славянскимъ буквамъ; діаконъ ходилъ слушать и спорить: любилъ горячіе споры, и басъ у Никона былъ хорошій, діаконъ басы любилъ; попъ ходилъ больше изъ-за діакона: съ первыхъ же дней у Староколѣннаго съ діакономъ такіе забавные споры пошли, что какъ сцѣпятся-пухъ бывало отъ обоихъ летитъ, будто перетрясаютъ старые подрясники. Никонъ Дорофеичъ смотрѣлъ на слявянскія буквы св. Писанія, какъ на кирпичи отъ вѣковъ сложеннаго зданія, а библію-книгу хоть и не считалъ, какъ многіе простые люди, что прямо съ неба упала, но вѣрилъ твердо, что рукой писана нечеловѣческой. - Вѣрю въ невидимое-говорилъ онъ, обращаясь къ попу,- а діаконъ вѣритъ только въ видимое. - Человѣкъ ты съ опереніемъ!-одобрялъ батюшка. Діаконъ сердился. - Какое у него опереніе, начитался староколѣнный человѣкъ, и все тутъ; книга книгой, а ты и жизнь разумѣй,-понимаю, новую жизнь. Я вѣрю какъ въ невидимое, такъ и въ видимое. - Умъ критическій - одобрялъ попъ и діакона. Разсерженный Никонъ бралъ въ руку библію и отвѣчалъ: - Долго ли ты, діаконъ, будешь хромать на оба колѣна.Моя вѣра вотъ! Не будь этой книги, всѣ бы мы другъ друга заѣли, какъ дикіе некрещенные людоѣды, эта книга намъ зубы опилила. - Книга не опилитъ зубовъ,-смѣялся діаконъ,-это, братецъ, такъ идетъ само: живетъ человѣкъ, привыкаетъ, научается и зубы теряетъ. Вотъ науку ты отвергаешь, а оглянись на себя, что на тебѣ безъ умысла человѣческаго: рубаха, штаны, сапоги, кушакъ, шатіка, только что борода своя. - Не своя, а Божья,-ты пустяки то брось, науку тамъ, одежду, а вотъ о бородѣ давай говорить! И пойдетъ и пойдетъ... Попу любо: смотрѣлъ какъ на пѣтушиный бой. Отъ книгъ и науки непремѣнно перейдутъ къ волѣ и еще бы: время такое было, что всякій о вопѣ говорилъ. Діаконъ стоялъ за волю, Никонъ Дорофеичъ за палку. - При волѣ палка нужна!-твердилъ Никонъ Дорофеичъ. Діаконъ придирался къ словамъ и смѣялся надъ волей съ палкою. Безземельный Никонъ Дорофеичъ не о той волѣ думалъ, что діаконъ, ему хотѣлось земли, землю онъ волей считалъ, а при волѣ судъ хотѣлъ строгій и праведный, такъ чтобы ничего у человѣка своего не было, а чтобы все отъ Бога. Праведный строгій судъ и называлъ Староколѣнный палкою. - Какая же воля изъ подъ палки?-смѣялся діаконъ. - А какая же воля безъ палки-отвѣчалъ Никонъ-глупость одна, этого всегда было довольно, иди дури, свѣтъ не заказанъ, свѣтъ на волѣ стоитъ. Занятные споры бывали. И до того къ Никону Дорофеичу попъ съ діакономъ навадились, что рѣдкій, рѣдкій день, бывало, безъ нихъ пройдетъ. Это замѣтили въ Еруновѣ рыбаки и стали къ пришельцу относиться съ почтеніемъ и считать въ родѣ какъ бы за богатаго. Въ ту осень, когда Никонъ пришелъ въ Еруново, хлѣбъ вездѣ дорогъ былъ, и рыба не ловилась, и ненастная погода чуть ли не съ Успенья пошла безъ отрыву, такъ что въ городъ проѣхать нельзя было (а изъ Ерунова въ Новгородъ одна дорога, лодейная черезъ Ильмень и по Волхову). Расчетъ у Никона Дорофеича былъ, когда шелъ въ Еруново, поставить масленку-льну въ этомъ краю много сѣяли, и денегъ для этого занять въ Новгородѣ. Когда пали осеннія ненастныя погоды раньше времени и проѣзду по озеру не стало, всѣ расчеты Никона расползлись, и остался онъ въ чужомъ селѣ такъ. Маленькому, опущенному, когда ѣсть нечего, легко съ ручкой пойти, а какъ итти Никону Дорофеичу. Говорили про него въ селѣ, что богатый человѣкъ, самостоятельный, поповъ каждый день принимаетъ, а вотъ съ ручкой пошелъ... Униженному низиться, а высокому падать. "Трудно стало Никону Дорофеичу. Въ ночь подъ Воздвиженье Анна Ивановна погребла муки и нашлось только ребятишкамъ на колобокъ, ради потѣхи. - На завтра у насъ, Никонъ Дорофеичъ, хлѣба дѣтей накормить не знаю, хватитъ ли. Такъ тихонько сказала, Анна Ивановна, не жалуясь, на ходу сказала отъ печки къ столу. Никонъ Дорофеичъ сидѣлъ за столомъ и читалъ Евангеліе на томъ самомъ мѣстѣ, какъ Го-сподь пятыо хлѣбами насытилъ нѣсколько тысячъ народа. - Ладно, Анна Ивановна, погоди, будетъ у насъ день, будетъ и пища. Не читай Никонъ Дорофеичъ Евангелія, откуда бы взяться духу отвѣтить такъ, расчетъ былъ простой, хлѣба нѣтъ, взять неоткуда, завтра итти побираться. Но въ невидимое твердо вѣрилъ этотъ человѣкъ, прочитанное принималъ за первую истину и переводилъ на жизнь. Перевелъ онъ и тутъ... Ничего не отвѣтила Анна Ивановна, помолилась Богу и спать легла. Никонъ Дорофеичъ не легъ, а принялся читать Св. Писаніе. Бывало съ нимъ, что нодъ праздникъ всю ночь просиживалъ надъ книгами. Въ этотъ разъ далеко до полуночи у него вдругъ остолбенѣли глаза. Прислушался къ погодѣ: бунтуетъ озеро и гукаетъ,-есть такая примѣта на Нльменѣ: гукаетъ озеро, не быть благодатной погодѣ вилоть до морозу. Оттого можетъ быть и остановились глаза у чтеца, что гдѣ-нибудь въ сердцѣ была все-таки мысль о завтрашнемъ голодномъ днѣ. Пробовалъ Никонъ Дорофеичъ много разъ приниматься вновь читать, но не могъ, худыя мысли все болыпе и болыпе поднимались наверхъ. Протеръ очки, прижмурился-ничего не помогаетъ, умъ замутился, голова, какъ зобъ набитый, и на сердцѣ тоска и страхъ, словно оторвался отъ людей, заблудился въ лѣсу и ужъ не хозяинъ себѣ человѣкъ, а деревья, елки, курносыя сосны, птицы и звѣри хозяева. - Нищій я нищій, завтра съ торбой итти-подумалось. И вдругъ, когда дошла тоска уже до самаго, самаго дна-- такъ бываетъ-стало покойно. Такъ бываетъ, словно кроткій свѣтъ осіялъ душу человѣка въ самую тяжелую минуту, поднялся, всталъ и пошелъ и пошелъ... Оглянулся Никонъ Дорофеичъ на свою семью: лежитъ Анна Ивановна, красавица, раскинулась, румянецъ на щекахъ играетъ, ручища-то, ручища-то у плечъ, а груди по обѣимъ сторонамъ близнецы сосутъ. - Баба-то, баба-то какая у меня-подумалъ Никонъ Дорофеичъ, а я говорю нищій! Развернулъ книгу, что откроется,-загадалъ,-то и прочесть. Открылась книга Товата, и чудо совершилось болшое- такъ понималъ Никонъ-то не могъ читать, глаза больные, а то "другъ съ такой радостью и съ такой легкостью и читалось, и понималось слово Божіе, что будто и не самъ читаешь, а кто-нибудь открываетъ. И открылось Никону Дорофеичу изъ книги Товата радость великая жизни, такъ что уже долго спустя, когда спать ложился посмотрѣлъ на свою красавицу Анну Ивановну прошепталъ, какъ Товія: „Не для удовлетворенія похоти, но поистинѣ, какъ жену, благослови же Господи помиловать меня и дай мнѣ состариться съ нею."
|
||
|
Posted: 06-10-2013, 10:09
(post 9, #1080608)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
Владимир Даль (Казак Луганский) - Чухонцы в Питере.  У нас, не без основания, называют чухнами все нерусское поколение коренных жителей Петербургской, Выборгской и соседних балтийских губерний. Оставив на сей раз в покое эстов и латышей, взглянем собственно на чухон, то есть на уроженцев Выборгской губернии, кои, в особенности женщины, так охотно называют себя шведами и шведками: "Я ведка ис Фиборг", обыкновенный ответ петербургской кухарки, если спросите ее, откуда она родом. Не только каждый народ, но и уроженцы известных мест, приходя на заработки в столицу нашу, держатся своего рода жизни и каких-либо особых промыслов. Так, касимовские татары все почти идут в дворники; рязанцы - в сидельцы и еще более в целовальники; тверитяне - в каменщики и штукатуры; белорусы - исключительно в земляную работу и прочее. Чухонца, или финляндца, вы не увидите ни в сидельцах, ни даже в разносчиках, кроме привозящих яйца, масло и молоко и выпрашивающих в домах, после продажи припасов своих, лоскутки и ленточки для дочерей и сестер. Высший круг ремесленного или рабочего сословия из этого народа - это серебрянники; за ними следуют трубочистные мастера; черный народ, оседлый в Петербурге, идет смолоду в трубочисты, иногда нанимается в кучера; идущие на заработки промышляют легковым извозом, и то более зимой, из ближайших деревень, верст за сто-полтораста; в ломовых же извозчиках вы никогда не увидите чухонца. Кроме того, выборгские крестьяне возят в столицу песок, на лодках и гужем, булыжный камень и все вообще сельские припасы, пригоняя иногда, на придачу, несколько голов своего малорослого рогатого скота. Встретив, особенно в воскресенье, такого трубочистного мастера, вы не всегда с первого взгляда догадаетесь, с кем столкнулись. Черный фрак и золотая цепочка, зимой также енотовая шуба - могли бы ввести вас в обман и заставить предполагать, что перед вами, по крайней мере, почетный гражданин, если не сам откупщик питейных сборов. Ремесло трубочистного мастера, у которого только изредка остаются на руках, по праздникам, следы прежних собственноручных занятий, - ремесло это хлебное. Мастера получают плату с дома, или, вернее с дыма, берут на себя подрядом обязанность чистить трубы во всех и самых огромных казенных зданиях и держать целую артель рабочих и мальчишек, содержа их, по крутому финскому нраву и тугому скопидомству, очень строго и на весьма умеренной пище. Салакушка и вообще плохая и дешевая соленая рыбка, да еще картофель, обыкновенная их пища; мясо видят они редко. Несмотря на это, вы в воскресенье, на Крестовском острове, должны заглянуть иному чухонцу вплотную за уши, чтобы узнать трубочистного подмастерья или ученика в толпе ремесленных веселых гуляк, для коих Крестовский остров составляет истинную отраду: там они, бедные, отводят душу и, собираясь с силами на наступающую седмицу, забывают по разу в неделю, как больно мастер надрал чуб в понедельник и в среду, как зло ущипнул во вторник, выдрал за ухо два дня сряду, в четверг и в пятницу, и как натолкал бока в субботу. Зимой и эта отрада не дается; изредка только удается забраться с товарищами в Красный кабачок, а впрочем, все праздничное утешение состоит в том, что сходишь в субботу в баню, - непременная льгота всех трубочистов, - да гуляешь в воскресенье с товарищами не с чумичкой, ядром, скрябкой, метлой и веревкой и не в бархатном черном платье, как сами они называют будничный наряд свой, а в сюртуке, и заметьте, непременно в белой манишке, или, по крайней мере, с белыми воротничками. Эти белые воротнички придают каждому трубочисту, в собственных его глазах, сто на сто цены и весу; ему, в будничном быту, белое белье - такое диво, что оно ему делается всего дороже и милее.
p.s. <<<В Финляндии, как говорится у нас, все дешево; иностранные ситцы, а в особенности кофе, на который наложено здесь до 150% пошлины, там вдвое дешевле всё течёт, всё меняется, но некоторые вещи, кажется, незыблемы p.p.s. Десятитомник рассказов и повестей В.И. Даля выходил в издательстве М.О. Вольфа в 1897-98 гг. (такие красные книжечки небольшого формата, печать и бумага не очень, но переплёт достаточно качественный). В наше время, издательство "Столица" привела их к современной орфографии, и утрамбовала в 8 томов, выпустив п.с.с. в 1995 году |
||
|
Posted: 06-10-2013, 12:16
(post 10, #1080609)
|
||
|
proRock Group: Netlab Soldier Posts: 25100 Warn:0% |
Siget, не уже ли кофе у Вас дороже, чем в Финляндии? Пипец. Красиво описал, но очень сумбурно. Стиль какой-то ломаный, путаные мысли. Я так и не понял (нет общей картины), кто такие чухонцы... |
||
|
Posted: 06-10-2013, 12:55
(post 11, #1080610)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
шо ж тут непонятного Точная цитата по 4-му изд. Фасмера: чухна - насмешливое прозвище финнов, петерб., др.-русск. чухно, семь чухновъ (Псковск. 2 летоп. под 1444 г., также в I Соф. летоп. под 1496 г.; см. Дювернуа, Др.-русск. словарь 229). Произведено от чудь с экспрессивным суф. -хно; ср. собств. Михно, Яхно, Махно, Юхно; см. Соболевский, РФВ 65, 419 и сл.; Зеленин, Сб. Ляпунову 66; Ломан, КZ 56, 43; Унбегаун, 13, 274; согласно последнему, это образование является характерным для Новгорода и отсутствовало в Москве. Ср. местн. н. Юхнов в [бывш.] Смол. губ. |
||
|
Posted: 06-10-2013, 13:05
(post 12, #1080611)
|
||
|
proRock Group: Netlab Soldier Posts: 25100 Warn:0% |
Короче, Даль, прикалывается. Смешные рассказы он хотел написать. Точнее все тогда сильно смеялись. А я следил за его мыслею и нифига не было времени смеяться... This post has been edited by Гордый on 06-10-2013, 13:08 |
||
|
Posted: 06-10-2013, 14:25
(post 13, #1080612)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
да вроде никаких приколов, ну если только "Я ведка ис Фиборг" по поводу ссылок - всё как и полагается в правильных работах - первые две на летописи, остальные на лексикографические работы других авторов. Открываем Вторую Псковскую летопись на году 6952 (1444), читаем: В лѣто 6952. Псковичи послаша посадника Феодора Патрикиевича и Прокопью соудию в Ригоу къ князю местеру, и взяша миръ съ княземь местеромъ на 10 лѣт, и целоваша крестъ месяца септевриа въ 8. Того же лѣта поставиша двѣ церкви, едину в Бродех Богоявление, а дроугоую на Завеличьи Оуспение святѣи богородици. Тоя же осени князь Александръ Васильевич съ пъсковичами ездивше под Новый городокъ немецкыи, и потроша жито на своей земли, и поимавше 7 Чюхновъ повѣсиша. Того же лѣта князь свеискыи выборскыи съ многыми Свеици приехавше на Норову, и поимаша на нашей сторонѣ посадника Максима Ларивоновича и с нимь 30 человекь бес треи, а иных иссѣкоша, а на мироу; и быша в полоноу год С Первой Софийской немного непонятно, моё издание, старшего извода заканчивается 1418 годом... Во Второй тоже ничего нет на эту дату, возможно опечатка, бывает Но не суть, это только говорит о достаточно длительном существовании в русском языке названия "Чухна", которое вот-вот забудется, а если и останется где, то в пушкинском популярном и всем известном На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася; бедный чёлн По ней стремился одиноко. По мшистым, топким берегам Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца; И лес, неведомый лучам В тумане спрятанного солнца, Кругом шумел. |
||
|
Posted: 21-10-2013, 09:36
(post 14, #1081662)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
В продолжение темы "ведок ис Фиборга" Исаак Бабель - Финны <впервые напечатано: Новая жизнь, 11 июня 1918 года. Под рубрикой "Дневник">  Красных прижимали к границе. Гельсингфорс(*), Або(*), Выборг пали. Стало ясно, что дела красных плохи. Тогда штаб послал за подмогой на далекий север. Месяц тому назад на пустынной финской станции, там, где небо прозрачно, а высокие сосны неподвижны, я увидел людей, призванных для последнего боя. Они приехали с Коми и с Мурмана - из мерзлой земли, прилегающей к тундре. Их собрание происходило в низком бревенчатом сарае, наполненном сырой тьмой. Черные тела - без движения - вповалку лежали на земле. Мглистый свет бродил по татарским безволосым лицам. Ноги их были обуты в лосиные сапоги, плечи покрывал черный мех. За поясом у каждого торчал кривой нож, тугие пальцы лежали на тусклых стволах старинных ружей. Древние тюрки лежали передо мной - круглоголовые, бесстрастные, молчащие. Речь держал финский офицер. Он сказал: "Бой будет завтра у Белоострова, у последнего моста! Мы хотим знать, кто будет хозяином на нашей земле". Офицер не убеждал. Он думал вслух, с тягостным вниманием обтачивая небыстрые слова. Замолчав, он отошел в сторону и, склонив голову, сталслушать. Началось обсуждение, особенное обсуждение, я такого Не слыхал в России. Тишина царила в бревенчатом сарае, наполненном серой тьмой. Под черным мехом - непонятно молчали тверже лица, призрачно искаженные мглой, склоненные, дремлющие. Медленно и трудно негромкие голоса входили в угрюмую тишину. Пятнадцатилетний говорил с холодной раздумчивостью старика, старики во всем походили на юношей. Одни из финнов сказали: пойдем помогать. Они вышли из сарая и, гремя ружьями, стали строиться у леса. Другие не тронулись с места. Бледный мальчик лет шестнадцати протянул офицеру газету, в которой напечатан был русский приказ о разоружении красных, переходящих границу. Мальчик дал газету и тихо промолвил несколько слов. Я спросил тогда финна, служившего мне переводчиком: - О чем говорит теперь? Финн обернулся и, не отрывая от моего лица холодных глаз, ответил мне в упор: - Я не скажу вам того, я ничего не скажу вам больше. Финны, оставшиеся с мальчиком, встали. Вместо ответа они покачали лишь бритыми головами, вышли и, понурясь, молчащей толпой сбились у низкой стены. Побледневший офицер крался вслед за ними, трясущейся рукой вытаскивая револьвер. Он навел его на потушенное желтое скуластое лицо юноши, стоявшего впереди Тот скосил узкие глаза, отвернулся, сгорбился. Офицер отошел, опустился на пень, швырнул револьвер и закрыл глаза руками. На землю нисходил вечер. Румянец озарил край неба Тишина весны и ночи облекла лес. Брошенный револьвер валялся в стороне. У леса офицер раздавал патроны тем кто пойдет. Недалеко от отряда, готовившегося в поход, я увидел мужичонку в армяке. Он сидел на толстом пне. Перед ним была миска с кашей, манерка борща, каравай хлеба. Мужик ел, задыхаясь от жадности. Он стонал, откидывался назад, дышал со свистом и впивался черными пальцами в свалявшиеся куски застывшей каши. Пищи хватило бы на троих. Узнав, что я русский, мужичонка поднял на меня мутно-сияющий, голубой глазок. Глазок сощурился, скользнул по караваю и подмигнул мне: - Каши дали, чаю сухого - задобрить хотят на позиции везть, я ведь петрозаводский. А толку что? На что народ аккуратный - финны-то,- а с понятием идут. Не выитить им живыми, никак им живыми не выйтить. Понаехали вроде мордва, озираются, все арестовать кого-то хо-чут. Зачем - говорят - нас везли? Аккуратный народ, худого не скажешь. Я так думаю - прихлопнет их немец скоро. Все это я видел на пустынной финской станции месяц тому назад. (*) Helsinki >>>"Helsingfors" redirects here. For the village in Västerbotten County, Sweden, see Hälsingfors.(wiki) (*) Або - на самом деле Обу (Турку, швед. Åbo) ================================================================================================== Исаак Бабель - Новый быт <Новая жизнь, 20 июня 1918 года. Под рубрикой "Дневник"> Мы в сыром полутемном сарае. Косаренко нарезывает ножичком картофель. Толстоногая босая девка поднимает запотевшее веснушчатое лицо, взваливает на спину мешок с рассадой и выходит. Мы идем вслед за нею. Полдень - синий в своей ослепительности - звучит тишиной зноя. На сияющих припухлостях белых облаков легко вычерчиваются овалы ласточкиного полета. Цветники и дорожки - жадно поглощенные шепчущейся травой - обведены с строгой остротою. Проворной рукой девка прячет картофель в развороченной земле. Склонив голову набок, Косаренко ловит тонкими губами усмешку. Мелкие тени летают по сухой коже, наполняя желтоватое лицо неприметной дрожью морщинок, светлый глаз задумчиво сощурился, рассеянно трогая цветы, траву, бревно сбоку... - Стрелковый Царской фамилии полк от нас неподалеку стоял,- шепчет Косаренко в мою сторону.- Там, кроме князей, никого и не увидишь... Сухих, гвардии полковник был, с царем учился, наш полк ему и дали, как флигель-адъютанта получил - маленько от долгов оправился, не из богатых был... Косаренко уже успел рассказать мне о великих князьях, об Скоропадском, бывшем его генерале, о сражениях, в которых погибла русская гвардия... Мы сидим на скамейке, украшенной Амуром, пузатым и улыбчивым. На фронтоне легкого здания сияет позолота надписи: Лейб-Гвардии Финляндского полка офицерское собрание. Мозаика цветных стекол забита досками, сквозь Щели виден светлый зал, стены его покрыты живописью, в углу свалена резная белая мебель. - Товарищ,- говорит Косаренке толстоногая девка,- Делегат насчет грядки говорил, я грядку-то посадила... Девка уходит. Мясистая спина ее туго обтянута кофтой, крепкие соски упруго ходят под ситцем, оттопыриваясь дрожащими холмиками. В руках девки - пустой мешок кажет солнцу черные дыры. Пустошь представлял из себя лагерь финляндского полка. Теперь земля принадлежит Красной Армии. На пустоши решили развести огород, для этого из полка послали десять красноармейцев. О посланных этих мне сказали так: - Они ленивы, привередливы, наглы и болтливы. Они не умеют, не хотят и не будут работать. Мы отослали их обратно и взяли наемных рабочих. Полк насчитывал в своей среде тысячу здоровых, бездельных юношей, едящих и болтающих. Огород этой тысячи обрабатывается двумя заморенными чухонцами, равнодушными, как смерть, и несколькими девушками петербургских окраин. Им платят по 11 рублей в сутки, они получают фунт хлеба в день, над ними поставлен агроном. Заглядывая в глаза, акроном говорит всем навещающим его: - Мы всё разрушали, теперь стройка началась, хоть с изъянами, да стройка, на будущей недели сорок коров купим... Сказав про коров, агроном отскакивает, потом медленно приближается и вдруг - бормочет на ухо свистящим злым шепотом: - Беда. Людей нет. Беда. Я в поле. Земля треснула от тепла. Надо мной солнце. Подле меня коровы, не красноармейские, настоящие. Я счастлив, брожу точно соглядатай, втыкаю сапоги в рассыпающуюся землю. Чухонцы, подпрыгивая, ходят за плугом. Из десяти красноармейцев остался всего один. Он боронит. Борона ездит в неумелых и растерянных руках, лошади бегут, зубья легонько взрывают почву только с поверхности. Красноармеец - мужик с хитринкой. Вместе с остальными хотели отправить в город и его. Он воспротивился - харчи хороши показались и жизнь привольная. Теперь он бегает за скачущими лошадьми, за кувыркающейся бороной и вспотевший, но важный, выпучив глаза, кричит мне яростно: - Сторонись... А девушки - те обливают грядки, работают неспешно, отдыхают, обняв колени в колодку, и лукавым певучим шепотом перебрасывают друг дружке бесстыдную городскую песню. - Я на десять фунтов поправилась,- шныряя глазками, говорит одна из них, горбатенькая, с мелким сероватым личиком,- отсюда на Гребецкую в мастерскую не побежишь... Кабы всегда казенная служба в деревне была, я, может, и молоко б тогда для ребенка пустила... Час шабаша. Солнце высоко. Стены белы. Мухи жужжат лениво. Мы лежим с Косаренкой на примятой траве. Девки, закинув на плечи лопаты, не спеша идут с огорода. Чухонец, дымя трубкой, распрягает лошадь, поводя водянистыми светлыми глазами. Красноармеец спит на солнцепеке, выбросив вбок обутую в лапоть ногу и приоткрыв перекошенный черный рот. Тишина. Задумчиво уставившись в землю, Косаренко шепчет небыстрые слова: - Я двадцать два года в фельфебелях был, мне уж удивляться нечему; а скажу вам, что не сознаю я себя --сон или настоящее? Был я у них в казарме - занятий нету, дрыхнут, на полу селедки, дрянь, щи разлитые... Долго ли продержимся? Немигающие глазки устремлены на меня. - Не знаю, Косаренко, надо б долго... - Делать-то не с кем. Гляди! Я гляжу. Чухонец распряг лошадей, присел на пень, бедными движениями поправляет портянки, красноармеец спит, пустынный двор облит белым зноем, длинные ряды конюшен стоят заколоченные. Далеко от нас, на фронтоне легкого здания, сияет позолота слов: лейб-гвардия... офицерское собрание... Рядом со мной похрапывает Косаренко. Он забыл уж, о чем говорил. Солнце сморило его. |
||
|
Posted: 23-04-2014, 22:56
(post 15, #1090178)
|
||
|
incunabulum Group: News makers Posts: 6046 Warn:0% |
раз уж тема Украины нынче так популярна, наверное всем будет интересно прочитать несколько рассказов известных украинских писателей Номер первый: Кулишъ Пантелеймон Олександровычъ - Характерныкъ <Зъ романа "Чорна Рада">  Характерныкъ Ридко, може, йесть на Вкраини добра людына, щобъ изжыла викъ, да не була ни разу въ Кыиви. А вже хто бувъ, то знае Братство на Подоли, знае ту высоку зъ дзыгаркамы дзвиныцю, муровану кругомъ ограду, ту п'ятыголову, пышно зъ переднього лыця розмальовану церкву, тiи высоки кам'яныци по бокахъ. Отъ же за рокивъ двисти назадъ все те було инше.... pdf - http://rghost.net/54543287 (7.16 MB) P_Kulish_Harakternyk.pdf |
||
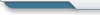
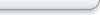
Powered by Invision Power Board v1.3.1 Final.

